Не так давно в ленте новостей фейсбука появился вопрос одного из из моих заочных френдов. Бывает ли взаимная любовь? Можно ли её сохранить и пронести через жизнь? Знаю точно. Да, существует. Да, возможно. А через несколько дней в той же ленте появился новый рассказ Павла Амнуэля. Я попросил у Павла Рафаэлевича разрешения опубликовать его в Клубе. Такое разрешение было получено. Не откладывая в долгий ящик, решил сделать это прямо сейчас. Что касается лично меня, то я давно так эмоционально не переживал прочитанное. Наверное, с того времени, когда читал роман Марио Варгаса Льосы «Похождения скверной девчонки». Рассказ вошёл глубоко в душу. Когда-то я и сам переживал нечто подобное… Итак,
Павел Амнуэль
НАДЕЖДА
Я ждал, когда все звезды превратятся в белые карлики и остынут. Такая это была вселенная: в ней изначально не возникли массивные звезды, и химический состав не благоприятствовал биологической жизни. Она и не появилась. Но мне пришлось дожидаться, пока остывшие белые карлики начнут скапливаться в облака, в черные галактики, кружиться друг вокруг друга, сталкиваться, взрываться… Это красиво, но я видел такое в множестве других вселенных, знал, что фейерверк закончится рождением единственной черной дыры, которая будет долго испаряться, пока не растворится в ложном вакууме. И лишь когда мир застынет в окончательной и бездумной нирване, я смогу его покинуть и продолжить поиски.
Мне не было скучно ждать. Каждая вселенная по-своему интересна, прекрасна и уникальна, хотя мне ли не знать, что миров бесконечно много, и таких, какой сейчас умирал, тоже несчетное количество. Смерть вселенной была так красива, что, если бы не цель моего поиска, я мог бы только такими мирами и любоваться. Как любоваться звездами, которых уже нет, и нравственным законом, который остался… И еще осталось и вечно со мной пребудет то, что позволяет мне все еще называть себя человеком.
—
Память.
Память о любви.
Которая была, есть и будет.
Всегда.
Последние симметричные частицы испарившейся, наконец, черной дыры канули в густую вакуумную пену, вселенная издала вздох и скончалась.
Теперь я мог идти дальше.
Я не знал, сколько еще переходов мне предстоят прежде, чем странствие закончится. Бесконечно много? Что ж, он меня предупреждал, и что я ответил тогда? Перефразировал моего любимого Роберта Луиса Стивенсона: «Дорога, полна надежд, а прибытие – счастья».
Даже если дорога бесконечно длинна?
Даже, если.
***
Мерион я увидел, когда заглянул утром в лавку Бертона, чтобы купить кусок мясного пирога. Мерион и две ее подруги стояли у прилавка и рассматривали уцененные броши. Когда я вошел, Мерион обернулась, и наши взгляды встретились.
Так это всегда начинается. Только не все понимают, что всегда начинается именно так. Много позже я понял, почему это происходит, но тогда смутился и отвел взгляд. У меня и в мыслях не было подойти к незнакомой девушке, представиться и спросить, не пойдет ли она со мной на представление цирка Барнума сегодня вечером, у меня есть два билета (я их еще не купил, но какое это имело значение?). У меня и в мыслях не было спросить, но я подошел, спросил и, лишь задав вопрос, ужаснулся содеянному.
Сейчас самая красивая девушка в мире смерит меня презрительным взглядом и, не удостоив ответом, скажет подругам что-нибудь нелицеприятное о невежливых молодых людях, заговаривающих с незнакомыми девушками, которых видят впервые в жизни.
—
– Почему бы нет, – улыбнулась Мерион, и мне показалось, что я проваливаюсь сквозь прогнивший дощатый пол лавки. – Давно хотела побывать у Барнума. Вы Сэм Бакли, верно? Служите у Деркистона, солиситора.
Она знала мое имя! Позднее, когда мы с Мерион уже ходили по улицам, держась за руки, она сказала, что часто видела меня в офисе Деркистона, куда приносила для подписи документы из мэрии, где работала секретаршей у заместителя мэра, тучного и громогласного мистера Гровза.
Она видела меня и запомнила имя, а я не обращал внимания на девушку с бумагами? Могло такое быть? Наверно, я был слеп и прозрел, когда в то утро – я навеки запомнил, был четверг, 18 сентября 1897 года – зашел в лавку к Бертону купить кусок мясного пирога.
Вечером мы сидели рядом, касались друг друга локтями и смотрели… Не на слона, качавшего хоботом на арене, не на клоунов, выкрикивавших остроты, – мы смотрели друг на друга и не могли отвести взглядов.
—
Потом…
Было счастье. Тихое простое земное счастье, каким его изображали в бессмертных творениях великие писатели, умевшие складывать слова в предложения, а предложения – в истории. В отличие от них, я не был наделен литературным талантом, и потому, сказав «счастье» и прекрасно представляя все мыслимые свойства этого состояния, не мог – до сих пор не могу! – описать счастье словами. Многие – возможно, все, – услышав или прочитав «я был счастлив», представляют всю глубину, все оттенки, все смыслы этих слов, но, уверен, каждый понимает по-своему, и сколько на земле людей, столько и смыслов в слове «счастье».

Скажите себе «я счастлив» и прислушайтесь к ощущениям и эмоциям. Уверен – вы меня поймете, хотя ваше счастье наверняка не такое, каким было мое.
Наше с Мерион.
—
Я не говорил ей: «Люблю тебя!». Наверно, это плохо. То есть я знаю, что плохо, надо было сказать, надо было говорить каждую минуту, каждый час, каждый отпущенный нам день. Все мужчины говорят женщинам «Я тебя люблю», и все женщины хотят, чтобы мужчины признавались им в любви каждый день, каждый час, каждую минуту. Я читал об этом у… Собственно, у кого я только не читал! Любой роман, даже если там шла речь о войне или победах над драконами, не обходился без трех слов, самых, наверно, популярных на любом языке мира.
Мы были странной парой? Наверно – если смотреть со стороны. Мы просто любили друг друга. Понимаете? Просто. Любили. Слова нам были ни к чему. Мы говорили о чем угодно: о горах и море, о булках с изюмом и фонтане на базарной площади, о прекрасных восходах и пасмурных закатах, о прочитанной книге и пьесе в городском театре, о дружеских стычках и о… Обо всем на свете. О любви нам говорить было не нужно – просто потому, что она была.
Помолвку мы устроили, когда прошли первые дожди. Кроме родителей Мерион, были несколько их родственников, чьих имен я не запомнил. Я был один. Отец скончался полтора года назад, матушка – при родах, а других родственников у нас не было.
Мы с Мерион обменялись кольцами и мысленно поклялись друг другу быть вместе, пока смерть не разлучит нас.
Я не знал, что это произойдет так скоро.
***
Вселенная оказалась местом безжизненным, горячим и скучным, как лента Мебиуса.
Здесь – я сразу понял по ощущениям – вскрылось одно из обычно свернутых измерений. Кривой мир, и воспринимал я его не зрением (правильнее сказать, не через электромагнитное излучение), а другими органами чувств, которых не было у меня изначально, и я не стал придумывать им названия. Осознать, впитать красоту этого мира мог только я: единственное живое и разумное существо во вселенной, где атомы были величиной с колокольню, а молекулы похожи (если их слышать) на витиеватую мелодию, растянутую и гибкую. Здесь существовали оксюмороны и только они.
Меня вытолкнуло одно лишь желание уйти – куда угодно, только подальше от невыносимой красоты. Я сделал шаг и оказался в центре мира, в сингулярности. Шагнул еще раз и выпал в другую вселенную – а та, что я покинул, схлопнулась, и убил ее я. Одним своим присутствием. Так бывает.
***
Каждое воскресенье мы с Мерион ездили на ярмарку в соседний городок Рокстоун. Можно было поехать на поезде – всего одна станция, четверть часа, билет три пенса, – но мы предпочитали мою бричку – отцовское наследство. Запрягали Крошку и, не торопясь, тряслись по ухабистой дороге, где осенью колеса увязали в грязи, а зимой скользили по ледяной корке. Зато летом…
Пастор, преподобный Парвик, выговаривал мне – с Мерион предпочитал не связываться – за то, что мы не приходим к воскресной проповеди, а я улыбался (зная, что моя улыбка злит этого, в общем, уравновешенного и безобидного старика).
Преподобный не мог понять, какое блаженство -встречать восход на краю обрыва у реки, стоять рядом с Мерион и смотреть, как из-за подернутого дымкой горизонта медленно вытекает расплавленная струя света. Оптический эффект, как я понял потом, в другое время, в другом мире, в другом состоянии души…
Мы стояли, не касаясь друг друга, но были вместе. Не вдвоем, а двое в одном. Это ощущение невозможно описать, не буду и пытаться. Тот, с кем такое происходило, поймет. А с кем не происходило – тому и описывать бесполезно. Как говорится, sapienti sat.
Это – любовь. Да, и это тоже.
Я – мы – не знал – не знали, что таких восходов скоро не будет.
Для кого-то останутся, а для нас – нет.
***
А еще я много раз и в разных вселенных видел, как умирало Солнце, и всегда оставался, чтобы досмотреть. Почему-то зрелище завораживало, хотя Солнце… Ну, что Солнце, обычная звезда, таких в Галактике сотни миллиардов, и сам процесс тоже ничем – разве что в мелочах – не отличался от множества других, но все равно: я понимал, что оказался в мире МОЕГО Солнца, другого, конечно, но все равно МОЕГО, потому что именно в таком мире были и давно ушли в небытие люди, были когда-то города, леса, реки, океаны, космические корабли, так и не достигшие даже ближайшей звезды, были картины Рембрандта, фильмы Кубрика, книги Диккенса и Шекспира, немного другие, немного не такие, какие я читал, но все равно те же, и были войны, смерти, болезни, убийства… Мой мир, мой бедный сгоревший в пламени солнечной плазмы мир.
Я видел то, о чем когда-то читал в книге Герберта Уэллса «Машина времени»: огромное багровое светило, наполовину поднявшееся над горизонтом, сгоревшие и догоравшие растения, запах тления и ощущение навсегда сгинувшего человечества. Я мог уйти, но меня удерживала память, я оставался и смотрел – уже с большего расстояния, – как отделяется от звезды оболочка и медленно, медленно, медленно впитывает все, что осталось от внешних планет, а Земли уже нет, и нет больше жизни в этой вселенной, и не будет никогда, я упустил момент, когда еще мог перейти, и вынужден был ждать полного распада мира – одного из моих. Ждать, ждать…
—
Я научился ждать. Я умел ждать. Я любил ждать, потому что «дорога, полная надежд…» Вы помните, конечно.
Я мог ускорять процессы. С какого-то времени – точнее, с каких-то бесчисленных времен, разных в каждой вселенной – я научился это делать, но редко своих умением пользовался. Время не играло роли. Миллиард лет? Триллион? Гугол? Какая разница? Все проходит. Пройдет и это.
И я уйду. Туда и тогда, где и когда, возможно, вероятно, даже наверняка – когда-нибудь и где-нибудь, у нашего обрыва, где скала, похожая на птицу, или на городской площади среди шумной толпы, или у полок книжного магазина мистера Гордона, или… да все равно где и неважно когда – мы встретимся.
Мы непременно встретимся. Обязательно. Как говорили математики, вероятность нашей встречи тождественно равна единице. Вот только когда… где…
***
Мы поехали в Рокстоун выбрать для Мерион свадебное платье. Или заказать, если готовые ей не понравятся. Выехали с восходом, чтобы успеть к открытию магазина – единственного в Рокстоуне, где можно было купить свадебное платье, заказать или взять напрокат.
– Я не хочу напрокат, – сказала Мерион, и я согласился.
– Заказывать – слишком дорого, деньги нам еще понадобятся, верно? – сказала Мерион. Я согласился и с этим.
– А если не будет такого платья, как я хочу, и такого размера, какой мне нужен? – забеспокоилась она, и я уверенно сказал (хотя вовсе не был уверен), что у миссис Деррек непременно найдется то, что нужно.
Я обнял Мерион и поцеловал. Конечно, будет платье, а я вытащу из сундука черный отцовский костюм, замечательно сохранившийся за четверть века после свадьбы родителей (в петлице даже сохранилась высохшая роза), миссис Уилсон, мама Мерион, постирает, высушит и пропарит каждую складку, костюм станет совсем как новый, будет мне в пору, и я надену его, и возьму Мерион под руку…
—
Я думал об этом, когда мы подъезжали к Рокстоуну, крикнул зазевавшемуся прохожему «Посторонись!», солнечный луч осветил лицо Мерион…
Бледное лицо. Как мел.
– Что? – спросил я. – Что с тобой, милая?
Я подумал, что она переволновалась из-за платья. Свадебное платье для девушки – это, наверно… Ну, не знаю. Так же важно, как наш первый поцелуй. И как еще не сказанные слова любви.
– Что-то я… – Голос Мерион стал зыбким, как поднимавшийся из оврага туман. – Что-то мне нехорошо…
***
Как-то я оказался во вселенной, жизнь которой была коротка, а мое пребывание в ней еще короче. Не знаю – насколько. Я ушел, не дожидаясь конца, и мне было бы безмерно жаль, если бы я конца дождался. К тому времени я уже успел понять: есть вселенные, куда можно попасть в любой произвольный момент их жизни – и уйти из таких вселенных тоже можно в любое время, пребывание ограничено лишь моим желанием там быть. Наша – моя – Вселенная именно такая, и потому я смог, когда понял, как это сделать – отправиться в путешествие, в поиск, исполненный надежды и уверенности, что надежда не напрасна.
Но есть другие вселенные, и несть им числа, куда попадаешь не по своему желанию, а по воле случая, и покинуть можешь лишь тогда, когда вселенная достигнет предела, финальной точки, перестанет существовать, и ты перестанешь существовать вместе с ней, и окажешься опять свободен в выборе, и – повезет или не повезет.
Можешь оказаться во вселенной такого же типа и опять ждать конца, а может выплыть, как моряк из водоворота, в мир, связанный с другими вселенными множеством квантовых сопряжений, позволяющих уйти тогда, когда поймешь, что делать тебе в этой вселенной больше нечего, надежда не оправдалась и на этот раз, и ты уходишь, надеясь, что следующий твой шаг, следующий поворот судьбы окажется, наконец, последним, ты снова и снова надеешься, и говоришь себе: надежда умирает последней, и значит, путешествие твое и поиск – долгие, и ты ждешь, и перекладываешь миры, как карты в бесконечной колоде, и всякий раз надеешься, и точно знаешь, что надежда не напрасна.
—
А в той вселенной, жизнь которой отмерена была мгновениями – от первой улыбки до последнего вздоха, – я хотел бы задержаться чуть дольше, потому что ничего прекраснее не видел до того, а потом, когда такие вселенные опять попадались на моем пути, у меня подобного желания не возникало – не возникает же у нормального человека желание продлить агонию прекрасного мира, гармоничного и достойного лучшей участи, но обреченного исчезнуть скоро, очень скоро, прямо сейчас.
Описать красоту? Я могу. Могу, потому что придумал слова, которых не было в мое время ни в одном языке мира. Ощущения, невыразимые словом, остаются вещью в себе, лейбницевской монадой, суть которой бесконечно сложна, но внешне невыразима.
За короткие мгновения пребывания в той прекрасной вселенной я пытался найти хотя бы сравнения, аналогии, метафоры – что угодно, приблизительные или пусть даже очень далекие от моих ощущений. Зря пытался. Даже если бы получилось, мне некому было описать восторг, я тоже был монадой, вещью в себе.
Конец наступил быстро, и следующий мир оказался…
***
Доктор Хитроу был стар, и многие говорили, что ум его уже не крепок, память дырявая, и на покой он не уходил только потому, что не мог найти себе замену. Он готов был дешево продать практику молодому врачу, которого сочтет достойным.
Желающих не было. В небольших городках, подобных нашему, люди болели редко, и молодые лондонские врачи, окончившие медицинский факультет, находили себе более выгодные места работы.
Как бы то ни было, я привез Мерион к доктору Хитроу и рассказал, что случилось по дороге в Рокстоун. К тому времени румянец вернулся на щеки любимой, и она сумела сказать, что, наверно, это был приступ женской слабости, а доктор, зная, естественно, о нашей помолвке и близкой свадьбе, не преминул задать Мерион вопросы, не предназначавшиеся, вообще говоря, для моих ушей и заставившие меня невольно покраснеть. Хитроу заметил, конечно, мое смущение – старик замечал все, несмотря на умственную слабость, – и ехидно посоветовал быть ближе к жизненной правде, нежели к романтическому ее отображению.
—
– Все будет хорошо, – сказал он. – На свадьбу я приду, даже если вы меня не позовете.
И все действительно было хорошо; платье для Мерион мы купили на следующей неделе, билетик с приглашением я отправил доктору по почте.
А день спустя Мерион не сумела встать с постели. Мистер Уилсон послал за мной мальчишку Питера, и тот навел на меня ужас, прокричав в окно: «Быстро, быстро – Мерион умирает!».
Не помню, как я оказался у постели любимой. У Мерион был жар, она с трудом говорила. Доктор Хитроу, осмотрев девушку, послушав легкие и сердце стетоскопом, не стал говорить свое обычное «Все будет хорошо», долго сидел, держал Мерион за руку, почему-то спрашивал (не у Мерион, а у ее матушки, миссис Уотсон), не шла ли в последние дни у больной кровь носом; да, бывало, но это у девушек от волнения, такое событие предстоит, миссис Уилсон, когда выходила замуж за отца Мерион, тоже этим страдала, а после замужества, как рукой сняло.
– Вы ведь, миссис Уилсон, замуж вышли тоже… гхм… в юном возрасте? – зачем-то спросил Хитроу и, получив положительный ответ, сжал Мерион ладонь и попросил пожать. Мерион пожала, но так слабо, что добрый доктор хмуро пошевелил губами, сказал, что все во власти Божьей, отчего матушка разрыдалась, а мистер Уилсон – я видел это, потому что стоял рядом – сжал ладони так сильно, что побелели костяшки пальцев.
—
– Вы думаете… – пробормотал мистер Уилсон и не закончил фразу.
Доктор сложил чемоданчик и сказал, что жар скоро спадет, хотя может и возобновляться время от времени, а от слабости хорошо помогает куриный бульон, и вообще не нужно Мерион беспокоить, организм должен сам справиться. Мне показалось, что он прошептал еще слово «если…», но не уверен, что расслышал правильно.
Выходя, он обернулся к мистеру Уилсону и произнес загадочную в то время для меня фразу:
– Чарли было шестнадцать…
И вышел, тихо прикрыв за собой дверь.
– Чарли? – спросил я. – Кто это – Чарли?
Мистер Уилсон хмуро посмотрел на меня, обнял жену и что-то зашептал ей на ухо: успокаивал, видимо. Матушка кивала и плакала, а потом они оба вышли, и мы с Мерион остались наедине.
– Все будет хорошо, – уверенно сказал я и погладил Мерион по рассыпанным на подушке волосам. – Скоро ты поправишься, и свадьба состоится в срок, вот увидишь. Ты самая красивая, я тебя очень люблю!
Мерион мне улыбнулась – я никогда, ни раньше, ни потом не видел ни у самой Мерион, ни у других женщин девушек, ни у кого больше на белом свете такой чистой, светлой, одухотворенной улыбки. Может, только у Мадонны на копии картины Рафаэля, висевшей у доктора Хитроу в большой комнате, где больные дожидались приема, созерцая висевшие на стенах репродукции старых мастеров, один вид которых, по мнению врача, способствовал излечению от болезней не хуже, чем лекарства.
Мерион заснула, а я сидел у изголовья и ждал, когда она поправится.
***
… оказался таким же, как множество других миров, встречавшихся чаще всего, а может, мне просто везло. Или – нет, не везло. Это были прекрасные миры и порой даже прекрасные времена, но – НЕ ТЕ миры и НЕ ТЕ времена, и я не хотел задерживаться надолго. Узнавание – а скорее, напротив, неузнавание – разрывало мне сердце и душу. Фигурально, конечно: сердце у меня было не всегда, а когда было, то спокойно и ритмично перегоняло кровь в артериях и венах. А душа… Я до сих пор не знаю, что это такое. Странно, потому что именно душа моя, неощущаемая и непознанная, оставалась той же, что всегда. Душа, чем бы она ни была на самом деле, сохраняла мою память, мою личность, мое единственное и неповторимое «я».
Мир, где я оказался, оставив погибшую во младенчестве вселенную, был, конечно, Землей. Он и назывался Землей. Были в этой вселенной и другие планеты, и Солнце светило по-родному, и звезды сияли в ночи – правда, я не узнавал созвездий, но разве это так важно?
Я рад был реальности, куда, как я уже понимал, можно в любой случайный момент войти и в любой избранный момент покинуть. Такие миры я называл идентичными – не потому, что они действительно не отличались друг от друга. Отличались – и сильно. Но законы природы были в точности такими, как в МОЕМ мире. В любом из идентичных миров была Земля. Не в каждом – Англия. И ни разу – Иствуд.
Время… Наверно, конец шестнадцатого века. Так мне подсказывала интуиция, которой я привык доверять – много (бесконечное число) раз убеждался, что осознание себя в мире зачастую мешает понять его внутреннюю гармонию. Осознание всегда сравнивает, интуиция независима.
—
На одной из тропинок в знакомом, но мне не известном лесу я встретил человека, тянувшего повозку, напоминавшую одноступенчатую ракету с тремя большими стабилизаторами. Я сошел с дороги, и человек прошел мимо, бросив в мою сторону беглый взгляд и не проявив интереса.
Я последовал за ним. Он шел, не оглядываясь, а я пытался понять назначение штуки, которую человек тащил неизвестно куда неизвестно зачем.
Я понял это несколько дней спустя. И того, что понял, и того, что увидел, и того, что не захотел принять и простить, оказалось достаточно. Мне нечего больше было искать в этой красивой, похожей, чужой, ненужной вселенной.
Я мог уйти сразу, но у меня вошло в привычку: в идентичных мирах я поднимался рано утром на холм – всегда можно найти подходящий – и ждал восхода солнца. Утро могло быть ясным, пасмурным, дождливым, ветреным или тихим – но солнце всегда поднималось над горизонтом. Я с детства обожал эти минуты тихого счастья. В ливень лучше были видны жаркие протуберанцы, в мягких рентгеновских лучах они изгибались и скрещивались, как-то сложились в буквы, и я разглядел имя. Имя, которое со мной всегда.
Солнце взошло, и я ушел. Дальше. Искать. Как в книге, которую я знал, потому что знал все книги, когда бы то ни было написанные и никогда не прочтенные. «Бороться и искать. Найти и не сдаваться».
***
Утром у Мерион опять начался жар, и я каждые несколько минут прикладывал к ее голове мокрое холодное полотенце – так велел доктор. И еще доктор велел поить Мерион теплым морсом, чаем или просто водой. «Нужно много пить, давайте ей пить как можно чаще, молодой человек, – сказал Хитроу. – Жидкость выгонит из организма миазмы».
Он произнес какую-то фразу на латыни, я не понял, но боялся переспросить и только кивнул.
– Вы любите Мерион? – спросил Хитроу, вытирая пальцы салфеткой.
Я хотел сказать «да, очень, сильнее жизни», но не смог, слезы душили меня.
– Господь да поможет вам, – пробормотал доктор и бросил салфетку в мусорную корзину. – Все мы в руках Господа.
Он вышел, не попрощавшись – сутулый, усталый человек, потерявший надежду.
Стало темно, будто задули все свечи. Везде. Навсегда.
***
Так обычно бывало, я давно привык. После «правильной», но не нужной вселенной я обнаруживал себя в реальности, где жизнь была невозможна в принципе. Конечно, не всегда случалось именно так, я довольно быстро определил числовую последовательность перемен, которая, впрочем, тоже выполнялась по правилам другой числовой последовательности, а та – по третьей, и в конце концов я перестал за игрой чисел следить. Мог, конечно, но мне это наскучило, и я предпочел восторг неожиданности унылым подсчетам без видимого смысла.
Вселенная, в которой я оказался, была молода настолько, что в ней не окончательно сформировались даже основные законы физики, а сквозь разрывы пространства «просвечивали» другие миры. Одни проявляли себя силой тяжести, скручивая молодое и не оформившееся пространство, другие «втекали» потоками разномерного времени, создавая красивые узоры в ткани вакуума. Когда я привык к такого рода «вздрязгам», как я их стал называть, мне интересно стало разглядывать – не участвовать в процессе, а только наблюдать «со стороны», – как остывает вещество, мгновение назад возникшее из тощего «ничего».
Я легко уклонялся от фотонных ливней, от волн тяготения, от вспышек аннигиляции, от дыр в пространстве-времени. Я любил плавать в пенистой гуще возникавших и сразу распадавшихся частиц – отделял частицы от античастиц и наблюдал, как новая физика, которую я создавал одним своим присутствием, упорно, с непоправимостью природного безумия, старалась свести мое участие к тождественному нулю, а я не препятствовал, мне было интересно наблюдать, а не вмешиваться – хоть ненадолго продлить краткую жизнь вселенной.

—
Продлить красоту новизны. Всякая новизна, даже такая скоротечная – прекрасна.
Если мне удавалось – не всегда, – я сжимал вспучившийся из вакуума штырь горячей плазмы, ощущение было ни с чем не сравнимым, и в то же время его можно было сравнить с бесчисленным множеством застывших в памяти ощущений прошлого. Все и ничто – два неотличимых состояния, если не стараться их разделить усилием воли.
Я не старался. Дождался – ждать пришлось недолго, – когда вселенная схлопнулась, пространство растаяло, несколько размерностей времени свернулись в простую последовательность событий, и, покидая этот мир, я ощутил печаль. Не печаль расставания. Не печаль отсутствия. Не печаль потери. Печаль как первооснову всего. Необъясненную (пока?), безмерную и желанную.
С ощущением печали я пришел в мир, где печали быть не могло.
***
Мерион открыла глаза и попросила поесть.
Я провел у ее постели всю ночь – одну? Две? Я не помнил. Выходил из комнаты только тогда, когда миссис Уилсон меняла Мерион одежду и помогала в делах интимных. За эти минуты я успевал проглотить кусок хлеба, запивая молоком, и посетить место, куда, говорят, и короли пешком ходят.
В то утро Мерион выглядела посвежевшей, на щеки вернулся румянец, ночь она проспала, подложив под щеку ладонь.
– Теперь все будет хорошо, моя родная, любимая…
Кто сказал это? Наверно, я.
– Бедная девочка…
Кто это сказал? Я обернулся.
Никого. Мы были одни в комнате: Мерион и я.
– Да, – сказала она и улыбнулась – правда, через силу.
—
Я дал ей выпить молока, она пригубила… Стакан выпал из ее рук, и молоко пролилось на одеяло. Мерион откинулась на подушку, и слезы покатились из ее глаз. Я свернул одеяло, накрыл Мерион пледом, пробормотал «я сейчас» и быстро вышел. В соседней комнате стояли у окна доктор и пастор. «Зачем здесь пастор?» – промелькнула мысль, но я не стал ее обдумывать, родители Мерион только что вышли из спальни, я обрадовал их: «Мерион проснулась, все хорошо, она просит есть!». Бросил одеяло в корзину для грязного белья и побежал на кухню – там был свежий хлеб, масло, овечий сыр. Переполненный радости, я соорудил бутерброд, налил молока в высокий стакан (я сам буду кормить любимую, раз у нее пока недостает сил держать стакан в руке) и вернулся к Мерион – не застав по пути ни мистера и миссис Уилсон, ни доктора с пастором.
Я еще ничего не понял, но выражения лиц… позы… ощущение, что небо вот-вот обрушится… нет, этого не может быть, это неправда, я говорил с Мерион минуту назад, и в ее глазах была улыбка, предчувствие…
Предчувствие, да.
Пастор бормотал молитву, а доктор сложил на груди Мерион ее неподвижные руки.
Я не мог поднять взгляд на ее лицо, не мог увидеть… не хотел…
– Бедная девочка…
Я узнал голос доктора.
Что было потом? Я все помню, конечно. Каждое мгновение. Каждое движение. Каждое слово. Я хотел забыть. Я хотел помнить только миг, когда Мерион улыбнулась мне – глазами, полными нежности и любви.
Но я все помню. И не забуду никогда. Никогда.
***
Это действительно был мир без печали. Люди улыбались друг другу, на улицах городов (здесь были только города; вся Земля один сплошной город, даже на склонах гор, даже на дне океанов – город, город, город) не было ни одного хмурого лица. Не было обиженных, не было завистливых, недовольных жизнью.
Сначала я подумал: «Это мир Утопии, мир Города Солнца. Как он прекрасен!
Прекрасен мир, где счастлив каждый!»

Но всему есть цена. Эволюция пошла странным путем. Странным для меня, хотя я повидал великое множество миров, казалось бы, более экзотических и непригодных к существованию в логично устроенной вселенной. Как и на моей Земле, на Земле здешней жизнь возникла, когда склеились на короткое мгновение два мира с разными законами физики. Так возникала жизнь везде, во всех мирах, где жизнь вообще возникала. И поначалу эволюция тоже проходила стандартно, как в бесконечно большом числе идентичных миров.
Естественный отбор, конкуренция генов, усложнение, растительный и животный миры. Наконец – люди. И тут, как я понял (у меня не было возможности повернуть вспять время и понаблюдать самому, но гипотеза объясняла все, что я видел и ощущал), произошла мутация. Наверняка не одна. Выживали виды с наиболее перспективной наследственностью. Какая наследственность перспективнее? Когда организм (тем более, разумный) угнетен, несчастен, и жизнь представляется ему мукой, лишенной смысла? Или когда организм (человек!) счастлив, бодр, полон сил, видит в жизни глубочайший смысл и генами своими передает этот смысл потомкам?
—
Эволюция выбрала второй путь. Человек счастлив. Счастлив всегда. Счастье – даром, и никто не уходит обиженным. Но здесь, как везде в бесконечности идентичных миров, есть войны, болезни, убийства, множество несправедливостей, из-за которых жизнь могла бы представляться ужасной. Однако люди счастливы, они искренне улыбаются, счастливое состояние передается по наследству, закреплено в генах, счастье дает преимущество. Человек со счастливым мироощущением предает беззаботно и не испытывает мук совести. Счастливый человек убивает, улыбаясь, и, улыбаясь, умирает, разорванный вражеским снарядом.
Это был мир счастливых убийц, счастливых жертв, счастливых негодяев и счастливых праведников.
Ужасный, нечеловеческий счастливый мир.
Я мечтал покинуть его, как только понял эволюционную цену, заплаченную за счастье, полученное даром.
Но это оказался мир второго типа, откуда был только один путь: дождаться конца вселенной. Мне повезло, вселенная оказалась замкнутой и расширялась не бесконечно.
Одиннадцать миллиардов лет – по сравнению с вечностью такой краткий миг, что, ожидая перехода, я едва не пропустил момент, когда счастливая цивилизация, успевшая «освоить» Солнечную систему, но так и не достигшая звезд, в одночастье погибла (со счастливым ощущением грядущей гибели) при взрыве близкой сверхновой…
Перешел я с чувством опустошения. Следующая вселенная показалась мне спокойным, уютным местом, и только…
***
– Это судьба, – сказал доктор Хитроу, когда, поддерживая под руку, пытался увести меня от свежезасыпанной могилы, а я сопротивлялся.
– Это судьба, – повторил он. – У миссис Уилсон был младший брат, Чарли. Он умер в шестнадцать лет от такой же болезни. Сгорел за два месяца… Дурная кровь… От этой болезни умерли многие в семье. Джош и Кэти очень надеялись, что судьба окажется милостива к их дочери. И все было хорошо, но…
Я слушал и хотел забыть. Но запомнил – каждое слово.
Значительно позже я узнал, что болезнь, разлучившая нас с Мерион, называлась «острый лейкоз».
– Бедная девочка…
Я не мог сидеть со всеми в большой комнате маленького дома Уилсонов и принимать соболезнования, слушать слова, которые не должны были звучать. Слова, каждое из которых, будто острый нож, вонзались мне в сердце.
– Бедная девочка…
Я сбежал. Вернулся на кладбище. Наступила ночь, но, мне казалось, что я вижу и в темноте. На могильном холмике стоял временный деревянный крест, и я даже в полной темноте сумел прочитать: «Мерион Уилсон. 1880 – 1897. Прими, Господь…»
– Бедная девочка.
Мы должны были быть вместе. Мы должны быть вместе. Мы будем вместе. Смерть не разлучила нас. Смерть нас соединит.
Решение созрело в ту ночь. Я любил читать Вальтера Скотта. Знал, как должен поступить, чтобы быть с Мерион. Существовала только одна возможность. Я вспомнил, как повел себя Эдгар Равенсвуд из «Ламмермурской невесты». О чем он думал, когда скакал через трясину навстречу судьбе?
Взяв себя в руки, я вернулся в дом, где люди, выглядевшие тенями, все еще сидели за столом и говорили… о чем? Я не слышал.
– Бедная девочка…
Я прошел на кухню, выбрал самый длинный нож, провел ладонью по острому лезвию.
И вернулся на кладбище. Взошла луна, почти полная, чуть выщербленная, при ее свете могильный холмик с крестом был виден издалека.
И у креста, опершись на трость, стоял человек.
***
…Земля была безвидна и пуста. Над водами никто не носился, жизнь на планете не возникла, необходимой для этого склейки миров не случилось, как не случилось ее в бесконечном количестве идентичных миров, в счетном числе которых я побывал и откуда без сожаления уходил, переждав «время квантовой соотнесенности» – порой короткое, порой переходившее в вечность.
Но только здесь и сейчас я ощутил в себе, наконец, бесконечную силу и бесконечную возможность силой пользоваться. Не только посещать, наблюдать, фиксировать, понимать и идти дальше. Я ощутил силу создавать.
Я – мог.
Мог стать духом и носиться над водами. Мог сказать «Да будет свет!» – и стал бы свет.
Мог отделить свет от тьмы, зажечь над водами пустой Земли яркое, нужного спектра, Солнце и поместить вокруг него планеты.
Мог создать гадов морских и тварей земных, и растения, поднявшие ветви и листья, чтобы впитать энергию Солнца для продолжения жизни.
Мог создать мужчину и поместить его в сад, который потом назовут Раем. Мог создать ему женщину, которую он будет любить, и от которой на этой Земле пойдет род людской. Через годы, века, эоны родится на земле девочка, и назовут ее…
Я мог. Но это было бы неправильно. Я не хотел обманывать себя и, подумав о своей бесконечной слабости, оставил этот мир таким, каким он был от природы, возникнув, как бесконечное множество других миров, из квантовой пены – будто Афродита из пены морской.
Пусть будет.
Земля осталась безвидна и пуста, а я продолжил путь…
***
Сердце мое забилось сильнее, и я крепко сжал рукоять ножа.
Луна выплыла из облака, и я разглядел человека, положившего трость на землю и протянувшего ко мне руки. Он был в черном плаще, скрывавшем фигуру. Взгляд его притягивал, а губы были плотно сжаты, когда он сказал:
– Не делай этого.
Сердце стучало так, что слышно было, наверно, на краю кладбища, у оврага. А голос был тих, я и сам едва себя слышал:
– Кто… ты…
– Не делай этого, – повторил черный человек. – Я знаю, ты пришел, чтобы убить себя, потому что любишь и хочешь быть с любимой там, где она, по твоему мнению, сейчас пребывает.
Он был прав. Он знал.
– Да, – сказал я.
Я хотел добавить, что не вижу другого выхода. Смерть разлучила меня с Мерион…
…«бедная девочка»…
…и мне нечего больше делать в этом мире, ведь она ждет меня там, на небесах.
– Нет, – сказал черный человек. Протянул руку и забрал у меня нож. Ладонь его была теплой и мягкой, но в ней все равно чувствовалась сила.
– Нет, – повторил он. – Она не ждет тебя на небесах, потому что нет небес, нет потусторонней жизни, нет Рая, нет Ада. Когда человек умирает, он становится прахом.
Из земли приходит он и в землю уходит. Умирая, просто перестает быть. Понимаешь?
Я помотал головой.
—
– Она умерла, – сказал он. – И ты, убив себя, умрешь. Просто перестанешь существовать.
– Нет… – пробормотал я.
– Да, – сказал он жестко. – Но я предлагаю тебе шанс. Выбор.
Я понял. Передо мной стоял Князь Тьмы и предлагал продать душу. Наверно, в такие моменты, когда человек не хочет жить, когда жизнь пошла прахом и смерть представляется благом, и приходит Князь Тьмы с предложением продать пока еще живую душу…
Нет. Этот человек не мог быть Дьяволом. У него теплая рука, добрый и понимающий взгляд. И голос…
– Я человек, как и ты. И вместо смерти предлагаю бессмертие.
Все-таки это был Князь Тьмы. Я шагнул назад и едва не упал, споткнувшись о чью-то могильную плиту.
– Осторожнее, – сказал он. – И выслушай, прежде чем принять решение.
– Уйди, – пробормотал я.
– Я не дьявол, – сказал он с досадой. – Пойми, наконец, и послушай. Другой возможности не представится.
Слушать я не хотел, но он произнес имя, которые я не мог не услышать:
– Мерион, – сказал он и повторил. – Мерион. Ты можешь ее найти. Выслушай меня, наконец. Мне не нужна твоя душа. Я не собираюсь подписывать с тобой договор, заверенный кровью.
—
Дьявол всегда лжет. Но теплая ладонь, взгляд…
Меня трясло, я опустился на холодный камень могилы и смотрел на нож, лежавший не земле, лезвие тускло отражало свет холодной луны.
Он проследил за моим взглядом и ногой отбросил нож в темноту.
– Ты выбираешь смерть, – сказал он, – а я предлагаю бессмертие. Слушай внимательно. Здесь и сейчас Мерион умерла. Но ты ведь знаешь Библию. Помнишь: «В доме Отца моего обителей много» ? И это так. Обителей бесконечно много. Есть обители… Правильнее называть их мирами, вселенными… в точности такие, как этот мир. Есть миры, не похожие на этот ни по какому признаку. Есть миры – и их бесконечно много, – где ты лишил себя жизни и отправился в небытие. Есть миры, где ты умер, и Мерион ушла из жизни следом за тобой, потому что не смогла без тебя жить. Есть миры…
Он бубнил и бубнил – о мирах, горницах, комнатах, вселенных, а я впадал в транс от перечисления, от тихого спокойного голоса, от слов, которые я воспринимал не сознанием, а частью себя, о которой не подозревал, не было ее во мне раньше. Я понимал смысл не слов, а мыслей. Но я слушал, и что-то во мне тянулось к каждому его слову, интонации, к тому, что за словами стояло и было истиной.
—
– …И среди этого бесконечного разнообразия, безусловно, есть мир, где Мерион не умерла, мир, где она ждет тебя, мир, где вы будете счастливы. Миров – обителей Господа нашего – бесконечно много, и потому мир, о котором я говорю, наверняка есть. И если ты хочешь быть с Мерион, если ты был готов ради встречи с ней лишить себя жизни, то тебя не испугает мое предложение. Чтобы найти единственный мир в бесконечном их разнообразии, нужно бесконечно много времени. Вечность. Значит, не умереть тебе нужно, а стать бессмертным. Бессмертным в истинном смысле слова. Нужно бесконечно долго жить, чтобы перебрать бесконечно много миров, вселенных, обителей господних. Двери этих обителей закрыты для смертных и открыты для бессмертных.
Он замолчал, будто перерезал ножом нить слов.
Подошел ближе, положил руку мне на плечо. Он смотрел мне в глаза, и я не мог отвести взгляда.
– Кто ты? – спросил я.
– Человек, – не сказал, а подумал он, и я впитал его мысль, будто всегда умел понимать без слов. – Бесконечно давно я, как и ты, стоял перед выбором.
Ты… бессмертный? – подумал я, и он понял мою мысль.
Кивнул.
– И ты… нашел… свою…
Он покачал головой.
– Еще нет. Но найду. В бесконечных мирах есть все. Сейчас ты не поймешь – неважно, поймешь позже. В счетной бесконечности есть любое число и найти его можно с вероятностью, равной единице. Просто нужно долго считать. Бесконечно долго. Но что такое вечность для бессмертного?
—
Вечность. Бессмертие. Слова, слова. Но я хотел быть с Мерион. Только с ней. Всегда.
Дьявол искушал меня? Только Дьявол мог дать бессмертие. Искушать вечной жизнью.
– Если ты умрешь сейчас, – сказал-подумал он, – то вероятность твоей встречи с Мерион равна нулю. Если станешь бессмертным, то вероятность того, что на какой-то тропинке из бесконечного их числа ты встретишь Мерион, равна единице. Ты уже понял, что означают эти слова.
Странно, но я понял. Про вероятности. Про бесконечный ряд натуральных чисел.
– Но если я не встречу Мерион… как я…
– Как ты оставишь эту горницу и перейдешь в другую? Двери откроются для бессмертного. Миры соединяются. Миры разветвляются. Со временем ты поймешь, как переходить из мира в мир. Что для бессмертного время? Путь твой будет далек и долог. Бесконечно далек и бесконечно долог. И бесконечно труден, поскольку это еще и бесконечный путь познания.
—
– Выбирай, – произнес он вслух. – Здесь и сейчас. Если ты выберешь смерть, я уйду, а нож останется. Тогда не будет ни тебя, ни Мерион, потому что смерть – это распад навсегда. Если выберешь бессмертие, перед тобой откроется бесконечно много тропинок, по которым можно бесконечно долго идти, но через бесконечное время на одной – на самом деле таких тропинок тоже бесконечно много, но тебе достаточно одной, верно? – ты встретишь Мерион.
– Мерион, – прошептал я и представил, как мы идем по цветущему весеннему лугу, держась за руки, вспомнил, как мы целовались в укромном уголке сарая, как смотрели друг другу в глаза и представляли всю нашу жизнь, всю до единого дня: свадьбу, рождение детей, двух, мальчика и девочки, я выучился на адвоката, а Мерион растит наше потомство, представил нашего взрослого мальчика, ставшего адвокатом в семейном деле, и взрослую дочь, вышедшую замуж за военного.
Представил, как мы доживем до глубокой старости, и внуки будут приезжать к нам, радовать нас успехами, а мы – постаревшие и все еще влюбленные друг в друга – будем счастливы, как только могут быть счастливы люди, прожившие вместе много лет, вместе испытавшие жизненные радости (непременно!) и невзгоды (как же без них, но пусть их будет меньше, мало, совсем немного…). И представил день ухода… ведь мы не сможем жить друг без друга, и когда смерть приберет одного, другой пойдет следом по долине смертной тени… Чтобы быть вместе и там, на небесах…
«Нет там ничего, и Мерион там нет, и тебя не будет…»
Это подумал черный человек или я сам?
—
– Есть мир, – сказал он, – где ты встретишь Мерион, и вы будете вместе. Ты найдешь Мерион, если будешь бессмертен и пройдешь бесконечное число дорог в бесконечных мирах.
– Бессмертие, – сказал я. – Этого быть не может. Человек не живет вечно.
Он понял, что я начал сомневаться. Не в его словах. В себе.
– Дорогу вечности ты должен будешь пройти сам, – сказал он, – но кое-что я должен объяснить, чтобы ты сумел принять решение. Ты перестанешь стареть. Ты станешь ученым, докажешь, что вселенных бесконечно много, и они соединены бесконечным числом связей. Когда ты это докажешь и примешь, и мысль эта станет твоей сутью, ты сможешь начать свое путешествие. И обретешь истинное бессмертие. Ты будешь человеком в мирах, где есть жизнь, Земля, люди. Ты будешь звездой во вселенной, где людей нет, а есть только горячее вещество и жесткое излучение. Ты будешь черной дырой в мире, где законы физики не позволяют существовать обычному веществу.
Даже коллапс вселенной не сможет лишить тебя жизни. Со временем ты станешь способен сам рождать новые вселенные, ты станешь всемогущ, потому что бессмертие неотделимо от всемогущества…
—
У меня кружилась голова, луна описывала в небе круги и подмигивала презрительно и насмешливо, я не понимал ни слова из того, что вещал черный человек, но – вот странность – чем больше и непонятней он говорил, тем больше… нет, правильнее сказать – сильнее я ему верил. Была в его словах притягательная сила убежденности, внутренняя сила уверенного знания.
Ведь он сам…
– Ты, – прервал я его на середине какого-то слова, прошедшего мимо моего сознания, но – я точно знал – укрепившегося глубоко в памяти, – ты тоже… сам…
У меня не было нужных слов, но он понял.
– Да, – сказал он, – давным-давно, вечность назад, я ступил на эту дорогу.
– Ты ищешь…
– Нет, не любимую женщину. – Он покачал головой. – У меня другая причина, но тот же путь.
– И у тебя…
– Да, мне тоже был предложен выбор.
– Боже, просвети меня… – пробормотал я. – Боже, не лишай меня разума…
– Бог внутри тебя, – сказал он. – Бог – в тебе. И тебе решать.
Вдалеке прокричал петух, за ним еще один. Я подумал, что сейчас черный человек растает в предрассветном тумане, и мне останется только…
Он тихо рассмеялся.
– Петухи? Рассвет? Ты все еще думаешь, что я…
– Нет!
– Человек сам определяет судьбу. Каждой мыслью. Каждым поступком. Каждым решением.
– Я хочу быть с Мерион. Если она жива, я ее найду.
Я плохо представлял, что такое бессмертие, и совсем не представлял тогда, что такое бесконечность миров.
– Я решил.
Он кивнул, протянул мне руку, я опять пожал его ладонь – теплую, твердую, – и мне показалось, что в меня перетекло что-то, чего во мне раньше не было.
– Прощай, – сказал он, поднял трость и пошел с кладбища. Не растаял, не испарился, просто ушел в туман, и я долго слышал его удалявшиеся шаги.
***
Следующую вселенную я создал сам. Просто потому, что почувствовал: я могу. И значит, нужно попробовать. Я понимал, что первая вселенная, которую я создам, окажется неуклюжей, вряд ли способной породить жизнь и, тем более, разум. Но ведь я мог и подправить – вовремя изменить какой-нибудь совсем нелепый закон природы, в нужное время устроить так, чтобы, если жизнь все-таки возникнет хотя бы на одной из планет хотя бы одной из звезд хотя бы в одной из галактик, помочь ей выжить в мироздании, слабо для жизни приспособленном.
Я подумал тогда: разве на моем уже бесконечном пути встречались миры, для жизни и разума приспособленные идеально?
Бесконечно много вселенных, бесконечно много возможностей. И ни одного идеально сконструированного мира? Невозможно. Неправильно. В бесконечно большом разнообразии непременно должно быть и бесконечно много идеальных вселенных.
Простая математика бесконечностей.
Почему же на моем пути их не оказалось?

Не стала идеальной – ни в малейшей степени! – и вселенная, которую я создал. Она была красива – бесспорно. Я летал меж галактик, погружался в пылевые облака, передвигал звезды, как в детстве играл в лесу камешками, собирая из них горы, башни и величественные замки-крепости со стенами и бойницами.
—
Мне нравилось то, что я смог создать – первый мой опыт. Я ожидал худшего.
Но жизнь я создать не смог. И когда вселенная – слишком быстро, чтобы я успел вмешаться… впрочем, не очень-то и хотел… когда вселенная схлопнулась в сингулярность, в ничто, в мою непродуманную мысль, только тогда, уже переместившись в другой мир, не созданный, не придуманный, я осознал простую вещь: никогда, никогда я буду создавать миры. Могу, да. Но не стану больше. Потому что могу по ошибке создать вселенную, где возникнет Замля, жизнь, разум, люди, страны и…
Я отбросил эту мысль и в следующую вселенную окунулся, как в реку бросился с высокого берега. И там…
***
Я продолжал жить, будто не было встречи на кладбище. Мы оплакали Мерион, я плакал и молился со всеми за упокой ее души, но во мне с каждым днем крепло убеждение, что моя любимая ждет меня, мы будем вместе вечно, и, хотя «вечность» была для меня тогда лишь словом, не наполненным истинным содержанием, я уже ощущал себя другим. Я и себе не мог объяснить, что происходит, но что-то происходило. Меня отпустила постоянная ноющая боль в правом боку. У меня там болело с детства. Когда еще был жив отец, доктор Хитроу сказал, что это, скорее всего, желчный пузырь, в котором завелся камень. Нужно не есть жирного, сладкого, соленого – в общем, всего, что я есть любил и отказываться не собирался. Я настолько привык к тихой боли, что перестал замечать, а однажды, недели через две после встречи на кладбище, почувствовал… нет, скорее не почувствовал того, к чему привык, как к неизбежности. Боль прошла.
Потом я обратил внимание на то, что стал лучше видеть. И слышать. Замечать оттенки цветов, которые не замечал раньше. Стал меньше уставать. Но главное – во мне проснулась любознательность, интерес ко всему на свете. Для меня это было новое и радостное ощущение. Я хотел знать, как образуются тучи, почему светят звезды, как могут мельчайшие существа – микробы, как их называл доктор – вызвать болезнь и даже смерть…
Я достал из шкатулки «драгоценности», оставшейся после смерти матери, – красивые брошки, кольца и серьги. «Прости», – сказал я ей и получил за украшения у старого Бейсона достаточно денег, чтобы отправиться в Оксфорд. Родители Мерион отпустили меня со слезами на глазах и снабдили небольшой суммой, хотя я отказывался взять, понимая, насколько эти деньги нужны им самим.
—
В Оксфорде я устроился помощником солиситора, меня взяли после небольшого экзамена. Я надеялся за несколько лет накопить сумму, достаточную, чтобы если не стать студентом, то хотя бы иметь возможность присутствовать на лекциях и слушать лучших в мире профессоров. Я хотел знать. Я хотел знать все. Я был молод, здоров и убежден (да, уже убежден!), что найду Мерион в каком-то из миров – видимо, на далеком острове в океане, а может, на одной из звезд в небе…
Не стану рассказывать подробно, как я жил до того дня, часа, мгновения, когда смог совершить первый переход. Пришлось бы писать роман, прочитать который мало у кого достало бы терпения.
В двух словах. После окончания Оксфорда я работал в физических лабораториях в разных странах, ничем особенным себя не проявляя, но все впитывая, узнавая, запоминая. У меня были коллеги, друзья, но я сторонился женщин и меня считали интровертом, всю жизнь посвятившим науке, но не добившемся ни в какой из наук успехов.
—
На Первую мировую я пошел добровольцем в британскую армию. Я был здоров и уже понимал, что меня невозможно убить. Я не собирался строить из себя героя, был обыкновенным солдатом в жуткой мясорубке. Меня дважды разрывало снарядами, пять раз я был смертельно ранен, как-то полк, в котором я служил, подвергся атаке новоизобретенным оружием – смертельным газом ипритом. Погибли все. Вообще-то, и я тоже. Когда поднялся, ощущение было не из приятных, но главное – мне пришлось дезертировать, иначе как я объяснил бы появление в расположении своих? Погиб весь полк – до единого солдата. Все офицеры и полковник наш Дан Вольфсон, прекрасный военный, на которого молились бойцы.

Я не вернулся в Англию. Купил документы – в послевоенном мире это оказалось проще простого, было бы деньги – и переехал в Северо-Американские Соединенные Штаты. Нью-Йорк был местом, где человек, вроде меня, мог затеряться – я и затерялся.
По-прежнему был молод и здоров. Жил и ждал. Ждал и жил. Переезжал из города в город, менял профессии, изучал науки, был в курсе самых новых открытий – ждал, когда физики откроют способ перейти в мир, где встречу Мерион.
Временами меня охватывало отчаяние – время шло, бессмысленное и беспощадное, и этот мир, воевавший, убивавший, стал мне ненавистен, но приходилось жить и ждать. Я с ужасом понимал, что придется ждать долго, но не понимал еще, что ждать придется бесконечно долго. Слово «бесконечность» еще не стало для меня живым, и бессмертие свое я представлял как очень-очень-очень долгую жизнь – надо дожить до того мгновения, когда реальность изменится, и я увижу Мерион, смогу ее обнять, поцеловать, поднять на руки и понести по нашей будущей общей жизни.
—
За годы в Америке у меня возникло множество связей, в том числе с людьми, которые могли время от времени делать новые документы, где я всегда указывал одинаковый возраст 32 года и, соответственно, разные годы рождения. Когда началась Вторая мировая, я записался в армию – опять, как четверть века назад, захотел проверить, действительно ли я бессмертен. Меня смертельно ранило в Арденнах, и мне пришлось бежать прямо из операционной, чего не ожидал никто. Я просто исчез, оставив после себя лишь окровавленные бинты. Меня разорвал на части снаряд – и я даже не знаю, был ли это немецкий снаряд или американский. А может, британский. Яркая вспышка, мгновение темноты, и я бегу прочь, форма в клочья, но сознание ясное, и даже боли я почти не чувствовал, разве что в первые мгновения.
Тогда, в Европе, я поверил, наконец, что действительно бессмертен.
***
Бесконечное множество миров очень похоже на мир, где существует галактика Млечный Путь, Солнечная система, планета Земля, пять знакомых континентов, Британия, Европа, Лондон – все-все-все такое же, как у меня ДОМА. Различия – а они были, конечно – я находил с трудом. Тем более, что до некоторых пор плохо ориентировался во времени. Побывав в миллиардах идентичных миров, я на своем опыте изучил историю Земли – всю-всю, от того времени, когда планета лишь начала «собираться» из множества планетоидных тел, мелких и крупных, и до того времени, когда Солнце, став красным гигантом, поглотило Землю, на которой давно не существовало жизни, погубившей себя огромным множеством способов – разных во многих мирах, а в других – тоже великом множестве – одинаковых.
Я умел создавать миры, но никогда – никогда! – не пытался создать СВОЮ копию Земли – с моей родиной, моим городком, моей Мерион. Я не хотел создавать суррогат, чтобы любить. Я уже знал, что черный человек был прав: моя Мерион ждет меня в бесконечном числе миров бесконечного числа многомировых реальностей.
Я умел создавать миры, возбуждая квантовый вакуум, инициируя бесконечную последовательность Больших взрывов, физические свойства которых определял я, конструируя и меняя законы природы.
И мне не приходило на ум называть себя Богом. Хотя я им был, с точки зрения любого религиозного существа, будь он человеком или разумным облаком межзвездного газа.
***
В одном из бесконечного множества идентичных миров…
Впрочем, расскажу подробнее, это важно.
Земля. Год от Рождества Христова две тысячи двадцать второй. Месяц – май. Британия. Графство Нортумберленд. Небольшой городок Мертон. Да, тот самый. Почти ничего не сохранилось из того, что было в моем мире и в моем детстве. Несколько старых зданий, которые я помнил довольно смутно, остальное – новое, неизвестное. Люди… Возможно, кто-то был потомком кого-то, кого я знал. Я мог пойти в мэрию, попросить наверняка оцифрованные копии старых документов и убедиться…
Я не хотел. Ни в одном из миров я не мог возвращаться назад во времени. Когда я пытался – а я бесконечное число раз пытался, – меня выбрасывало в другой мир, тоже идентичный, в другое, случайное время. Я был всемогущ, мог создавать новые вселенные, но энтропия в каждом мире была сильнее меня. Нигде и никогда я не мог – а я пытался! – изменить направление стрелы времени. Конкретного времени в конкретной вселенной.
Несколько дней я бродил по родному городу и уже собирался уйти, как делал это бесконечное число раз, но решил перед уходом посидеть на берегу. Река, где я купался в детстве, была сейчас в пределах городской черты заперта в гранит набережных, и я побрел на север, где река делала излучину, и природа осталась нетронутой… ну, почти… и берег был крутым, как и прежде. Я снял обувь (туфли на мне всегда и во всех идентичных мирах были одни и те же – те, в которых я был на похоронах Мерион; они не менялись, потому что я этого не хотел). Я снял обувь и брел вдоль берега по теплому песку и влажным камням.
—
Девушку я увидел, когда вышел из подлеска. Молодая, лет семнадцати. В джинсовом костюмчике с ушедшей модой на порванные коленки. Русые волосы до плеч. Босая, как и я.
Конечно, она не могла быть Мерион. Совсем не похожа.
В позе девушки, во всем облике, во взгляде, который она бросила на меня, увидев, как я появился из-за дерева, была безнадежность. Она отвернулась, ожидая, когда я пройду мимо.
– Не нужно этого делать, – тихо сказал я, и она услышала.
Я тоже услышал. Ощутил ее смятение, ужас, желание жить во что бы то ни стало, желание быстрой смерти и страх от того, что смерть окажется не быстрой, и придется мучиться, пока… пока…
Ее звали Эстер. Прошлой весной она познакомилась с прекрасным парнем, Филиппом. Боже, это было счастье, ярче которого нет ничего в жизни. Любовь. Они были вместе.
Они были одним существом. Строили планы. Будущее представлялось дорогой длиной в жизнь. Да, они будут жить долго и умрут в один день, лет через восемьдесят, а, если наука к тому времени сумеет продлевать жизнь, то, может, – сто или больше. Дети, внуки, правнуки…
Ничего этого не будет. Ничего. Никогда. Из фразы «они жили долго и умерли в один день» выпала первая половина. В мыслях Эстер рефреном повторялась вторая часть: «и умерли в один день».
Филиппа нет. Нет ничего.
—
Я протянул руку, и у нее не достало сил мою ладонь оттолкнуть. Я коснулся ладони Эстер и понял то, что она сама от себя прятала на самом дне сознания.
Филиппа сбила машина, и он умер. На месте. Ее Филипп. Ее жизнь. Похороны сегодня, но ее там не будет. Ее не будет нигде. «Они жили… и умерли в один день».
– Не нужно этого делать, Эстер, – сказал-подумал я. – Ты еще сможешь встретиться с Филиппом и прожить с ним долгую жизнь. Бесконечно долгую.
Она смотрела на меня с испугом и молчала.
«Его нет! И меня тоже. Мы будем вместе – там».
«Там нет ничего, Эстер. Но ты можешь быть с Филиппом – в мире, где он остался жив.
В бесконечном множестве миров есть бесконечное множество таких, где…»
Она отдернула руку и сделала то, чего я, видя ее, казалось, насквозь, тем не менее не ожидал.
Она сделала шаг. Один шаг. Шаг, который боялась сделать, когда подошел я.

Выбор.
Река была быстрая, уж мне ли не знать, я много раз сидел здесь на берегу, чуть выше по течению. Бросал в воду камешки и ветки. Камешки шли на дно мгновенно, а ветки мгновенно терялись в потоке – мне ни разу не удалось проследить взглядом, как они плывут.
Она не выплыла.
—
Конечно, я мог ее спасти. Но выбор сделала она. Осознанно и бесповоротно. «Я хочу быть с Филиппом сейчас, а не когда-нибудь».
Я не успел рассказать ей всего, что мог и хотел. Но она поняла меня сразу и, поняв, сделала выбор.
Я стоял на высоком берегу и думал о том, правильный ли выбор сделал я сам.
Я – бессмертный и всемогущий. Я, создающий вселенные и переживший множество миров. Мой выбор – правильный?
Я усомнился только на мгновение. Такое малое, что в моей бесконечной памяти оно не оставило и следа.
Оставило, конечно. И я всегда – всегда! – буду помнить это утро, этот высокий берег, эту девушку, Эстер, ни на секунду не усомнившуюся в своем выборе. Более того, выбор она сделала, когда я открыл ей возможность встречи. Когда-нибудь. Где-нибудь.
А она хотела только здесь и только сейчас. Иначе – зачем жить…
Я ушел из этого мира, мне больше нечего было здесь делать. Очередной мир без Мерион. Бесконечно давно на бесконечно далекой Земле черный человек – такой же, как я сейчас, – предложил мне выбор. Я выбрал разумом и пониманием. Эстер – эмоцией и тем, что люди называют душой.
Кто выбрал правильнее?
—
Есть вопросы, на которые даже у всезнающего, всемогущего и бессмертного нет ответа. Я понимал, что в любой другой реальности, которые мне еще предстоят, Эстер выберет тот же путь. А я? Существуют ли в бесконечных мирах такие, где я отказался от предложения черного человека? Может быть. Наверно. Наверняка. Но такие миры были для меня – всемогущего – закрыты. Ни в какой вселенной я не мог встретиться с самим собой. Закон природы. Неизменный и вечный. Второй закон термодинамики, о котором я впервые узнал из потрепанного учебника физики в Оксфорде. Бесконечно давно.
Я ушел из мира, где не смог спасти Эстер, и оказался…
***
Это была вселенная, из которой можно было уйти, лишь дождавшись ее конца. «Открытая» вселенная, расширявшаяся бесконечно долго. Пока в ней не испарится последняя черная дыра, а ложный вакуум вспенится и позволит соединиться двум бесконечностям, сумма которых создаст новую вселенную, чью бесконечность я смогу разорвать и перейти в мир, где меня, наверно, может быть, я на это надеюсь… ждет Мерион.
Ведь она меня ждет, верно?
Надежда умирает последней?
Надежда не умирает. Никогда.
(с) Павел Амнуэль, 2022
Большая часть иллюстраций предоставлена автором.
Примечания:
Цирк Барнума — американский цирк, первоначально основанный Финеасом Барнумом под названием Величайшее шоу на Земле.

Солиситор (ударение на втором слоге) — категория адвокатов в Великобритании, ведущих подготовку судебных материалов для ведения дел адвокатами высшего ранга (барристерами).
Любопытная статья о Барнуме с замечательными иллюстрациями. Подробнее
Гугол — так называется число 10 в степени 100 (10100). Записывается как единица со ста нулями. Название предложено в 1938 году девятилетним Милтоном Сироттой, племянником математика Эдварда Казнера во время беседы с ним о больших числах. В тот же день родилось ещё одно слово для обозначения сверхбольшого числа: гуголплекс. Это десять в степени Гугол. Гугол больше, чем количество атомов в известной нам части Вселенной, которых, по разным оценкам, насчитывается от 1079 до 1081
P.S.
В Клубе я уже публиковал удивительной силы рассказ Павла Амнуэля Авраам, сын Давида. Если вам понравился этот рассказ, То и тот понравится обязательно.
А вообще буду рад, если кто-то откроет для себя этого удивительного и мудрого писателя.
P.P.S.
Когда готовил рассказ к публикации, Youtube подсказал мне вот такую музыку. Настроение при её прослушивании настолько точно совпало с настроением при чтении рассказа, что не мог не поделиться.
Это альбом креативного французского трубача Эрика Трюффаза (Eric Truffaz), записанный совместно с синтезаторщиком, работающим под ником Муркоф (Murcof). И если с творчеством Трюффаза я знаком довольно неплохо, то имя Муркофа оказалось совершенно неизвестным.
Этот альбом хорош тем, что его можно слушать и в фоновом режиме, и напряжённо вслушиваясь. Музыка наполнена большим количеством мелодических и ритмических ходов, разнообразными эффектами и приёмами. Удовольствие привычному уху гарантировано. А непривычное может попробовать привыкнуть…
Erik Truffaz & Murcof — Being Human Being (Complete Album / Álbum Completo)

















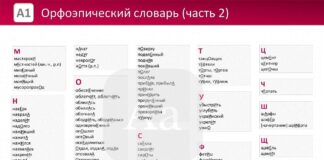




Не читала художественных произведений миллион лет. А это прочитала с удовольствием. Спасибо за него и за этот сайт. Пожалуй, останусь читателем, мне здесь удивительно уютно.