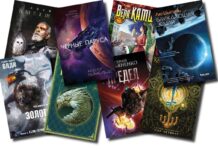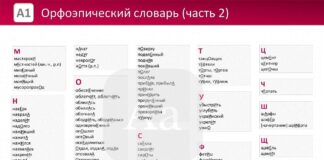Много лет назад я обзавёлся привычкой: если мне попадается в интернете интересный текст, то я сохраняю в своих закромах родины ссылку на него. Вот и собралась у меня огромная коллекция из тысяч ссылок на книги, статьи, эссе, видео, страницы авторов… Даже не знаю, зачем я их собирал. Но зато теперь, когда я решил вернуться к публикациям в Клубе, у меня огромный выбор. Более того, даже глаза разбегаются от разнообразия вариантов 🙂
Почему именно Саша Соколов?
По некоторому размышлению решил новый этап клуба начать публикацией эссе Саши Соколова «Увы: написанное сбывается», опубликованное им в США в 1984 году. Почему именно с него? Не нужно искать в этом какой-то символики или скрытого смысла. Просто Саша Сколов для меня — не просто один из моих самых любимых и самых глубоких русскоязычных писателей. Я вижу в нём потрясающего мастера слова, буквально создателя новой для русского языка системы образов, нового узнаваемого стиля. В этом отношении я ставлю его в один ряд с такими титанами русского языка, как Алексей Ремизов и Андрей Платонов.
Работы Саши Соколова не спутаешь ни с чьими другими. У него свой, неподражаемый слог, ритм, словарь, настроение. Он как океан: даже если вы читаете короткий рассказ или эссе, вас уносит куда-то далеко, подальше от нашего мира. Не знаю, как кого, а меня так точно.
Надеюсь, что этот короткий текст, отчасти передающий особенности языка Саши Соколова, поможет кому-то открыть для себя этого потрясающего писателя.
«Увы: написанное сбывается». Саша Соколов о себе (1984)
Само ли прекрасное приискивает себе подмастерьев среди беспризорных и озорных духом и, очаровывая невечерним светом своей бесполезности, возводит их в мастера? Премного ль обязаны те умениями своими прекраснодушным наставникам из ремесленных душегубок? Иль все начинается и творится по воле прекрасной инакости — отрешенно и вопреки? Иными словами: на чем мы остановились, что умозаключили на наших тысячелетних досугах: что было и будет в начале: художник или искусство? А также: наличествует ли наше прекрасное, если мы не имеем к нему касательства, не имеем в виду, отвернулись и очерствели. Или ударились в безобразное. Положим — в безобразие благополучия; в безобразие небытия — в этот кромешный стыд; в безобразие сплетен об истине.
Где там, кстати, в каком балу влачится ее драгоценный шлейф, отороченный благородным скунсом? Что нам делать без этой сиятельной дамы, ведь в наших собраньях повисла масса вопросов. Ведь нам неймется не только сравнить их с висящими на наших же вешалках старомодными зонтиками и тростями, но и выпрямить эту согбенность, исправить эту вопросительную горбатость — словно бы раболепную, угодливую, а в сущности настырную и узурпаторскую. Вопросы пленяют нас. Что там себе поделывал в деревне зимой Александр Сергеевич, и как хороши, если конкретизировать, в какой именно степени были свежи розы Ивана Сергеича? Как — а главное: чем делать стихи и вообще изящное и замечательное? И если нечем — то чем тогда заниматься? Не сочинить ли биографию Навуходоносора, не составить ли мемуары, не податься ль в отцы нации, не причислиться ль к лику святых?
Кто есть кто? Кто зван, а кто призван? Или просто ребром: ты меня уважаешь? На улице неотложных вопросов — праздник и ярмарка. В балагане политики, идеологии и тщеславия, где витийствуют около- веды и вещают пророки — полный сбор. Главный номер программы: пара коверных с брандспойтами обдает умиленную публику густопсовой дресней, а потом вся в белом на белом коне на арену выезжает сама Посредственность. Спешите видеть. Ну а те-то, которые беспризорные духом? В культуре, подвергшейся множественным размозжениям с применением лакированной тары, затоваренной умопомрачительной требухой — глас они вопиющего в индифферентности: подайте юродивому копеечку!
И что, казалось бы, делать — только не Александр Сергеичу, и не зимой у себя в поместье, а вот мне, Александру Всеволодовичу, круглый год, и в совершенно иной земле, где не пахнет сирень, деревья забыли свои имена, где о свойствах древесных лягушек можно потолковать лишь с самоотверженным соколоведом Доном Бартоном Джонсоном, а на кладбищах вместо задушевных могильщиков с их гуманными лопатами и веревками работают трубоукладчики и бульдозеры. Что делать нам всем, для которых полупроводник это не более, чем проводник, обслуживающий два вагона? Конечно же, преподавать, прометействовать, возжигать светильники разума: университетов же — тьма. Как возможно не знать произведений Гордия, трудов Сизифа, философских воззрений Прокруста, — воскликнул профессор, вернее — ассистант-профессор, до слез восхищенный неведением студента.
Да будет вам, — отмахнулся студент, — у вас — своя компания, у нас — своя. В самом деле, с чего этот экзальтированный экзаменатор возомнил, что его дисциплина чего-нибудь стоит, чего он пристал к представителю молодежи? Видать, господин профессор — приезжий, небось, эмигрант из какой-нибудь там России, где, слышно, союз писателей играет роль чуть ли не оппозиционной партии. И чего еще церемонятся там с этими борзописцами. Вот отрубят им всем, говоря по-китайски, собачьи головы — тогда узнают. Не скажу за Париж, за Лондон, за Копенгаген. Быть может, процесс выздоровления объединенных наций от литературной хандры происходит неравномерно, и в тех одряхлых столицах, словно в каких-нибудь бразилиях и сибирях, еще не в курсе, что лавочку изящной словесности пора прикрывать. Но у нас в Новом Свете, рекомендуясь: писатель, — вы должны непременно оговориться, что позволяете себе это слово в значении здесь отставном и невнятном.
Ибо в представлении нечитающей массы райтер — это человек, умеющий набросать письмо, заявление, манифест, пособие по бегу трусцой, популярный социологический трактат, заполнить налоговую анкету. Нету в местном наречии и старого доброго имени графоман, в нашем, то есть, понятии. Ведь медицинский термин графоманиак намекает, что уважаемый райтер просто слегка приболел. То есть — это почти синонимы. Да чего там, право, эстетствовать, элитарничать. Здесь нам не петербуржский салон времен замечательного поэта-нудиста Константина Кузьминского, пусть сам он и переехал в Техас. Оставьте ж в покое свою Мнемозину, милостивый государь, не теребите ее, не мусольте.
Когда, оздоровленный новейшим опытом, я живописую кому-нибудь, что значит в стране моего языка быть писателем, или хотя бы слыть им, я думаю: баснословен. А когда, вояжируя из Канады в Америку, меня на таможне спрашивают: занятие? и я отвечаю: писатель, — меня немедленно начинают обыскивать. Потом прибывает проникновенный гражданин в штатском и у нас заходит душещипательная беседа на предмет сердечной привязанности. В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, на русском? А сердце, говоришь, — где? Мое сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр.
Вот как уклончиво следовало бы мне отвечать, но я опасаюсь прослыть излишне сентиментальным. Ведь моя литературная репутация и без того уж подмочена. Вы знаете, отчего я столь внимательно вас лорнирую, — сказала мне княгиня из первой волны, когда мы сидели с ней за одним из ее наполеоновских столиков, имея ланч. Помилуйте, — возражал я, тушуясь.
Я прочла вашу Школу Для Дураков два раза, — продолжала княгиня, — и, поверите ли, поначалу решила, что вы — вольнодумец, масон, а теперь догадалась: вы просто умалишенный. Лорнирует меня и канадская Ее Величества конная контрразведка. Однако ее осенила догадка иного толка. Ваша карта бита, — заявили нам в компетентном монреальском учреждении, — вы и ваш земляк Соколов Александр, он же — Саша: шпионы. Улики? Более чем достаточно. Во-первых, мы оба что-то все время пишем, во-вторых, мы однофамильцы. Только один из нас, будучи монархистом, пишет нашу фамилию с двумя эф на конце, а другой, будучи сам по себе, с одним ви. Когда меня арестуют, я утешусь следующим воспоминанием.
Однажды в Италии был задержан немецкий лазутчик, который срисовывал старинные башни. И хотя он пытался уверить следствие, что он известный поэт, дескать — Гёте, имя его никому ничего не сказало. Ведь Иоганн Вольфгангович тоже подвизался под рубрикой Литерачер Бийонд Политике. А ведь упреждал, упреждал меня пьяница дядя Петя, малограмотный егерь из волжской деревни, где я тоже работал егерем и писал первую мою книгу: Санька, говаривал дядя Петя, не ездь в Америку. Впрочем, когда он давал мне этот стариковский совет, об эмиграции я даже не помышлял. И искренне удивлялся: Бог с тобой, Петра Николаич, с чего ты взял, какая Америка. Вижу, вижу, — читал он мою судьбу, — уедешь. Слова его тем более озадачивали, что о политике мы никогда с ним не заговаривали. Газет в деревне не получали, радио не интересовались и жили размышлениями о состояньи реки, погоды, охоты. И пророчество дядя Пети являлось вдруг, в просторечье прекрасной застольной беседы минимального смысла и осмысления.
Странны, загадочны и трагичны события, происходящие в той захудалой местности, где, кроме меня, обретал вдохновенье Чайковский и Пришвин, Рильке и его переводчик от русской сохи Дрожжин, но где душа человеческая не многим дороже пары сапог. Там протекает Волга, она же — Лета, впадающая в Тюркское море Забвения. Чаевничая ее водою и входя в обстоятельства ее берегов, делаешься навсегда причастен к необъяснимому — в ней и в судьбах ей обреченных.
Недавно я получил письмо от приятеля-браконьера. А что, — начинается эта неглазированная деревенская проза, — не сказывал разве тебе дядя Петя, чтобы не ездил куда не след? Не послушал — вот и не знаешь про нашу деревенскую жизнь. После утопления Ломакова Витьки за время твоего отсутствия — случилось. Помнишь ли Илюху-придурошного? Пошел Илюха за Волгу за выпивкой на день Конституции, а лед еще слабый был — так уж после только лыжи нашли.
Костя Мордаев, который инвалид-перевозчик: тому конец загодя был известен. Вот и уснул на корме. Глубины, куда култыхнулся, — с полметра было. Но Мордаеву и того достало. А теперь про Вальку, Витька-хромого жену да про бабку- Козявку. На ноябрьские поехали на ту сторону в магазин, а уж закраины обозначились. Выпили в магазине — и обратно гребут. А когда на лед вылезали—то опрокинулись. Стоят в воде и кричат. Услышали их в домах, стали мужей будить, а те сами в стельку. Проснулись они утром, а жены ихние в сенях стылые уже лежат. Запили мужики пуще прежнего.
Или вот Борька-егерь как-то с папироской уснул — ну и сгорела изба, да и от Борьки ничего не осталось. И еще много всяких таких историй случилось у нас и в соседних деревнях, — заканчивается этот сокращенный мною мортиролог, — обо всем не расскажешь, книжку надо писать. Я написал ее. Называется — Между Собакой и Волком. С фотографией деревенского ясновидца Петра Красалымова на обложке, она вышла в Ардисе за несколько месяцев до получения этих известий. Тем не менее все они в той или иной интерпретации в ней прочитываются.
А что касается невзгод человека, который стал прототипом матроса Альбатросова, то эти невзгоды постигли его чуть ли не в полном соответствии с текстом. Увы: написанное сбывается. Ибо судьба подсказывает беспризорному духом решения, которые уже приняла. И мастер ли пишет житейские мифы, они ли — его, все равно: текст промыслен все там же, на сокровенных скрижалях. И не судьба ли ответит на все вопросы, не она ли решит, что пребудет в конце: слово или молчание? И если потребуется — вырвет наши грешные языки.
(c) Саша Соколов, 1984
Несколько мыслей вслух после прочтения
Пока публиковал, прочитал эссе повторно. И, как в первый раз насладился яркими красочными эпитетами, оборотами и образами, отсылками к персонам и произведениям. Судите сами:
- ремесленная душегубка;
- шлейф, отороченный благородным скунсом;
- вопросительная горбатость;
- беспризорные духом;
- глас вопиющего в индифферентности;
- моё сердце — летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр.
А каково сочетание старомодного «лорнировать» и англицизма «ланч»? И ведь эти слова прекрасно уживаются в одном абзаце, ни одно не выглядит в нём чужеродным, не мешают восприятию текста как единого целого!
И вот ещё о чём подумалось: насколько описанный автором российский деревенский быт 70-х мало отличается от описанного в бунинской «Деревне» или на тех кадрах, что иногда мелькают в ленте Youtube! У меня от вида этих спивающихся (спившихся) мужиков и баб начинает щемить сердце…
P.S.

Ну вот, перечитал эссе и снова захотелось перечитать так поразившую меня в своё время его «Школу для дураков». А то и уже подзабывшуюся «Между собакой и волком» и так до конца и не осиленную «Палисандрию». Благо его двухтомник со всеми тремя романами стоят у меня за стеклом на видном месте. Интересно, как я восприму его творчество сейчас? Ведь этот двухтомник я купил и прочитал 25 лет назад, будучи другим человеком? А, может, и не настолько уж и другим?
И да, даже если вы не читали Сашу Соколова раньше, то с чьим творчеством вы можете сравнить его магический язык? Какое впечатление произвёл на вас этот текст? Зацепил ли, или с трудом дочитали до конца? И ещё более общий вопрос: а кто из современных русскоязычных «серьёзных» писателей стал для вас открытием? А то я напоминаю сам себе женщину перед огромным шкафом наполненным нарядами: «нечего надеть»… Мне порой так сложно выбрать книгу для прочтения из своей огромной библиотеки, что ваши рекомендации и мысли для меня бесценны!
«Саша Соколов Последний русский писатель» Документальный фильм
P.P.S.
А, ведь, пожалуй, стоит разыскать в сети и выложить здесь другие эссе Саши Соколова… Или не стоит?